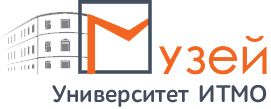Приемский Дмитрий Григорьевич
Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Начальник отдела Всесоюзного научного исследовательского института Министерства среднего машиностроения СССР (город Арзамас-16) – Всероссийский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров Нижегородской обл.). Выпускник ЛИТМО (1949).
Родился в 1927 году в городе Ленинграде. В 1942 году был эвакуирован в город Черепаново Новосибирской области. В ноябре 1943 года поступил в Ленинградский институт точной механики и оптики на оптический факультет. В Ленинград возвратился летом 1944 года. Окончил ЛИТМО в 1949 года в первом выпуске факультета Электроприборостроения, рекомендован в аспирантуру. Работал до 1952 года в ЦНИИ им. А.Н. Крылова инженером-исследователем и учился в аспирантуре.
В марте 1952 был зачислен в кадры Советской Армии и направлен на переподготовку в Военную Артиллерийскую академию. К концу этого же года направлен в военное представительство Главного Артиллерийского управления (ГАУ) в НИИ-137 в Ленинграде, ныне – НИИ точной механики.
Кандидат технических наук (1966). Доктор технических наук (1978). Профессор по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» (1984 год). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1990). В мае 1967 года был назначен начальником отдела Всесоюзного научного исследовательского института Министерства среднего машиностроения СССР (город Арзамас-16). Сейчас – это Всероссийский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики в городе Сарове Нижегородской обл.
В этом Институте проработал около 30 лет сначала военнослужащим. Последняя должность заместитель главного конструктора института, начальник научно- конструкторского отделения точной механики.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Автор ряда изданий.
В 1995 году переехал в Санкт-Петербург и в настоящее время работает дома.
О нем: в книге Известные выпускники Университета ИТМО. Серия книг "Университет ИТМО: Годы и люди", выпуск 9 - СПб: 2015 - 390 с. - С. 265-266
Страница обновлена 15.08.2016
Дополнения:
Из воспоминаний Д.Г. Приемского: ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД
Процедура моего приема в студенты Ленинградского института точной механики и оптики была короткой. Заместитель директора института, взглянув на мой аттестат, произнес: "Вы приняты, идите на занятия". Это было 18 ноября 1943 года. Вступительных экзаменов в учебные заведения в военную пору не было.
Первый курс. Я ходил на лекции и ничего не понимал. Занятия длились уже больше двух месяцев, то есть прошла половина семестра, видимо, сказывался недостаток моей школьной подготовки. Я, естественно, старался догнать, спать ложился в 3 часа ночи, но помогало это мало. Особенно тяжело мне поначалу давалась математика с ее фундаментальными понятиями пределов и бесконечно малых величин. Ее читал профессор Богословский, очень педантичный и строгий человек. Как-то на одном из семинаров он сказал, что мне трудно будет постигать математическую науку, потому что у меня «разбросанный ум». И, между прочим, был прав, что говорит о его высокой квалификации как педагога.
С физикой, которой нас учил профессор Аглинцев, живой и немного экстравагантный человек, мне было куда проще. Практические занятия по этому предмету у нас вел ассистент Мещерский. Говорили, что он сын автора известного задачника по теоретической механике, по которому училось много поколений студентов.
Основы марксизма-ленинизма, в то время уже предмета обязательного с первого курса, нам преподавал доцент Дивеев. Из его занятий я мало что узнал о марксизме, но на всю жизнь запомнил формулу английского философа епископа Беркли о том, что «мир есть комплекс моих ощущений», и замечание, тоже английского философа Юма, которое гласит, что «трудно говорить о себе, не впадая в тщеславие».
Профессор Лапшин - металлург - систематических лекций у нас на первом курсе не читал, но какие-то занятия вел. На одном из них он меня спросил о моем отношении к Николаю Николаевичу Приемскому. Я сказал, что я его внук, а профессор в ответ сообщил мне, что он студентом в 1904 году был у него на практике в Сормово. Хорошо, что на этот разговор никто не обратил внимания и последствий он не имел.
Мои усиленные занятия принесли свои плоды, и мне удалось перейти на тот уровень, когда начинаешь понимать то, что читаешь в книге или слушаешь на лекции. Я неплохо сдал экзамены за первый курс, утвердился в звании студента и не только не потерял в учебе из-за воины, а, наоборот, что-то сэкономил за счет окончания школы экстерна.
Весной 1944 года была объявлена добровольная вербовка в студенческие отряды по восстановлению Ленинграда. Я, естественно туда немедленно записался. Мы выехали сразу же после сессии. Воспоминания приводят меня в вагон «пятьсот веселого» поезда. Так в те времена назывались пассажирские эшелоны, ходившие без расписания по заданному маршруту. Номер этого поезда начинался с цифры 500, например 511 или 528. Поскольку он шел неопределенное время, подолгу задерживаясь на отдельных станциях, то в процессе поездки образовывались компании людей, объединенных бездельем и необходимостью как-то заполнить свой досуг. Отсюда и произошло устойчивое название «пятьсот веселые» поезда, которые сыграли большую роль в жизни людей, возвращающихся из эвакуации.
Мы ехали из Новосибирска в Ленинград 13 дней, не так уж много по тем временам, всего раза в два с небольшим дольше, чем на скором поезде после войны. В вагоне я обитал на третьей полке. Купе тогда еще не были разделены сверху вглухую, между третьими полками существовал только небольшой буртик. Поэтому навеpxy, как и внизу, собирались свои компании, и никто не пребывал в одиночестве. Надо сказать, что, не смотря на неопределенность срока в следовании поездов по маршруту, порядок по прибытии их на очередную станцию был обеспечен. Нас ждал обед в виде тарелок с густым борщом, расставленных на длинных столах прямо на перроне, на станции был кипяток и рядом базар. Можно было даже помыться в пункте дезинфекции - стоянки были длинными. Главное, что поезд отправляли после одного, двух, затем трех ударов колокола, слышных на всю округу, и длинного гудка паровоза. Так что времени прибежать к вагону было достаточно.
Поезд тогда шел в Ленинград с восточного направления к станции Бологое и поворачивал к северу по недавно восстановленной Октябрьской железной дороге. Весь железнодорожный путь до Ленинграда включительно шел по совершенно черной, выжженной земле. Все станционные строения были разворочены, а металлические сооружения, типа мачт для освещения путей, пробиты много, численными осколками и причудливо загнуты к земле. На меня, уже видевшего войну и разрушения своими глазами, эта картина произвела тогда неизгладимое впечатление. Наши представления об Отечественной войне сейчас очень примитивны. Они больше основаны на фильмах и художественных образах, которые, как правило, вторичны от кинохроники и рассказов различной достоверности.
Из первичных произведений я знаю только два: "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова и «Звезда» Эммануила Казакевича. Наверное, были люди, выжившие и в том черном кошмаре, последствия которого я видел из окна вагона, но они ничего не смогли рассказать нам о нем.
Наш поезд прибыл на Московский вокзал, и я, взгромоздив чемодан на плечо, пошел домой, на улицу Каляева, дом 16. Я шел по пустому Ленинграду днем. Люди почти не встречались. Практически все стекла в домах были выбиты и заделаны по-разному, так что выглядели грязными заплатками разных цветов и оттенков. Повсюду на стенах виднелись дыры от снарядов и поминутно встречались полностью или частично разрушенные дома. Сейчас такой Ленинград мало кто помнит, хотя людей, утверждающих, что они здесь тогда были, предостаточно.
Когда я пришел к себе на шестой этаж в квартиру № 10, входная дверь была открыта, и я прошел в наши комнаты из большой прихожей. Все было так же, все стояло на прежних местах, и даже можно было затопить нашу блокадную печку, если бы и так не было тепло. В квартире из всех жильцов осталась только Катя Слесарева, которая никуда не уезжала. Я заставил ее мыть вместе со мной пол.
Так просто состоялось мое возвращение в Ленинград летом 1944 года после довольно насыщенных событиями двух лет моей жизни. Круг замкнулся. Я опять жил в той же маленькой комнате, где мы вместе с бабушкой и матерью коротали зимние дни сорок первого и сорок второго годов. Окна были еще забиты картоном, но электрический свет уже горел, и коптилки ушли в прошлое. Я спал на том же диване, а на ночь тщательно проверял одежду и аккуратно ставил ботинки на заданном место, с тем, чтобы быстро одеться, в случае воздушной тревоги, так ни разу в это время и не случившейся.
Я уже говорил, что возрождение института в Сибири происходило с помощью местных сил, освободивших помещение для горстки людей, поодиночке собравшихся в одном, указанном кем-то месте. Институт же, как таковой, как единое учреждение в Черепанове не переводили. По-моему, нечто аналогичное произошло и в Ленинграде. Мы, бригада студентов-рабочих, пришли в здание, заваленное столами, стульями, шкафами и старым лабораторным оборудованием, но практически без людей. Весь институт тогда помешался в одном доме с двором за высоким забором, выходящим за улицу Плеханова. Все трубы отопления и водопровода лопнули в нем еще зимой 1941 года. Это произошло во многих домах, где вода из труб не была спущена своевременно.
Труд по ремонту системы отопления здания был тяжелый и нормы очень жесткие. Лимитов на обязательную зарплату не существовало, поэтому в получку, если в делах что-то не ладилось, могли ничего не заплатить, весь заработок ограничивался раньше выданным авансом. Сейчас даже трудно представить, как я тогда с этой работой справлялся. Нужно было отвинтить от патрубков очередную треснувшую батарею, отнести ее на своих плечах во двор, кувалдой выбить из батареи лопнувшие секции, сформировать батарею вновь, отрезать по размеру и выгнуть на горне новые патрубки, нарезать на них резьбу, вволочь все обратно наверх и поставить на место. Норма - две батареи в день, ее мне не всегда удавалось выполнить. Наши студентки работали с таким же физическим напряжением. Мы не роптали, хотя эта работа не обеспечивала нам даже самую простую пищу.
С ней были большие трудности. Хорошо, что дома у меня была мука, которую я привез из Черепаново. Я делал из нее каждый вечер лапшу и варил на электрической плитке. Вдобавок я уже начал курить, и мне требовалось хота бы несколько папирос в день. Все это можно было достать на улице, где стояли продавцы с папиросами, их можно было купить поштучно у любой булочной, можно было купить без карточек хлеб, который продавали четвертинками, или еще чего-нибудь съестного рядом почти с каждым магазином. Несмотря на строгую карточную систему, свободная торговля » розницу широко процветала. Но мне не хватало денег. До сих пор помню с досадой, как продал букинисту в магазине на Невском проспекте чудом сохранившееся от моего прадеда полное собрание сочинений Лажечникова издания 1847 года. Но я очень хотел есть.
Этих букинистических и комиссионных магазинов тогда в городе открылось много, так же как и ломбардов. Надо полагать, они собирали неплохую жатву.
Но мере того как мы ремонтировали здание, оно наполнялось народом. В коридорах стали встречаться знакомые и незнакомые лица, открылись дирекция и деканаты, а в сентябре начались занятия по заведенному порядку. Будто бы и не было никакой Сибири и эпопеи с эвакуацией.
Вообще, город оживал на глазах. Уже к осени 1944 года выбитые стекла в окнах городских домов постепенно становились редкостью. В нашей квартире весь картон сняли и вставили стекла, прослужившие потом много десятилетий. Заделывали дыры от снарядов в стенах домов. Разрушенные здания, если что-то от них оставалось восстанавливали по старым проектам. Наряду с нашими строителями в этом деле участвовали и пленные немцы, На разборке остатков разрушенных домов обязаны были отработать все, в том числе и студенты. Была даже норма по уборке развалин. Нужно отдать должное тому начальнику, который определил восстанавливать Ленинград в том виде, а каком он был раньше. В результате старые здания Санкт-Петербурга и весь его облик были сохранены. Я не знаю, кто был этот начальник - руководители Ленинграда II.С. Попков, А.А. Кузнецов или Я.Ф. Капустин, расстрелянные впоследствии по «ленинградскому делу», или все трое вместе, но убежден, что здесь не обошлось без целенаправленной и осознанной политики. Не только все дома, но и дворцы восстанавливали именно такими, какими они были до разрушения. Позже это уже не соблюдалось, и несколько домов, построенных в центре города на месте полностью разрушенных зданий, вы глядят сейчас как заплатки на хорошо сшитом костюме.
Институт, как я уже сказал, заработал нормальным порядком, а мы, студенты-водопроводчики, еще не кончили восстанавливать отопление. После включения горячей йоды, что было, конечно, большим событием, началось устранение протечек и прорывов. В памяти осталось, как залило лабораторию часов, где сохранились уникальные экземпляры этих механизмов. Преподаватели кафедры бегали в панике, мы же, сознавая важность момента, действовали неторопливо и обстоятельно.
К этому времени в Ленинград вернулась моя мать. Рано утром, когда я еще спал на своем диване, открылась дверь, и она вошла в комнату. За событие особенного значения мною это принято не было. Устроившись дома как обычно, она вновь начала работать, на заводе «Электропульт». Вскоре вернулся и отец и тоже начал работать в КБ своего завода. Жизнь, казалось, вошла в свою обычную колею. На самом деле изменилось многое и прежде всего мы сами. В разных вариантах война отразилась на всех, кто, коснувшись ее, остался жить. Я, например, так и не смог преодолеть в себе чувство обостренного ожидания опасности, что в дальнейшем отразилось на многих моих поступках.
Где-тo в начале декабря 1944 года я отдавил себе палец упавшей батареей и, получив бюллетень, впервые с осени мог передохнуть. Никто с нами о продолжении учебы не заговаривал, и мне было ясно, что нужно самому принимать какие-то меры. Во всех жизненных ситуациях есть предел, дальше которого тянуть с решениями больше нельзя. В тот раз я вместо работы пошел на лекции в свою группу и на работу не вернулся. Никто моему появлению на занятиях не удивился. Студент Женя Сальман, с которым мы вместе работали и очень сдружились, следуя моему примеру, тоже возвратился на занятия, и ему это сошло с рук, как и мне. Наверное, время пришло, и наш возврат к учебе начальством ожидался.
Так незаметно закончилась моя работа водопроводчиком. Она не отмечена в моих анкетах, поскольку была вроде бы по совместительству со званием студента, но сыграла немалую роль в моей жизни. Она дала мне возможность раньше других вернуться в Ленинград и умножила мои практические навыки по обращению с металлом.
Второй курс. Сдавать зачеты и экзамены за третий семестр, когда мы не учились, а работали, чтобы не отстать на год, Женю уговорил я со своей склонностью ловить ускользающие шансы, в деканате нам это разрешили, все-таки мы отстали не по своей вине, а восстанавливая здание института. Как только разрешение было получено, организацию дальнейшего процесса учебы и сдачи экзаменов взял на себя Женя. Мы стали жить вместе в комнате его еще не возвратившихся из эвакуации родственников. Занимались мы день и ночь в буквальном смысле, почти не спали, но сдали все, что требовалось за третий семестр, и продолжили учебу на втором курсе уже нормальным образом.
Должен специально упомянуть о событии, которое потом имело решающее значение в моей жижи. На одной из первых лекций я увидел девушку в сером пушистом свитере. Она сидела ко мне спиной. Тонкая талия и вьющиеся каштановые волосы невольно привлекали к ней внимание. Это была Лена Слонимская. Скоро я познакомился с ней поближе. Она из Ленинграда никуда не выезжала и около трех лет работала медицинской сестрой. Еще до войны, окончив школу, она поступила в Технологический институт и поэтому отработав медсестрой, в 1944 году смогла перейти в ЛИТМО. По инициативе Жени мы стали все чаще заниматься втроем. Ему нужен был спарринг-партнер, чтобы было кому объяснять изучаемый материал и за счет этого самому понять то, что учишь. Я хоть при этом и присутствовал, но для такой роли никак не годился. В результате вместо двоих нас стало трое, и поскольку жили мы рядом, то отношения между нами, постепенно улучшаясь, стали носить чуть ли не родственный характер.
Между тем уже на рубеже 1944-1945 годов институт начал заполняться новыми студентами, прибывающими с фронта. Рассказывали, что вышел приказ Верховного Главнокомандующего, по которому всех военнослужащих, которые до войны были студентами не ниже третьего курса, надлежало вернуть из армии в институты для продолжения учебы. Они появлялись обычно в военной форме с нашивками ранений и орденами. Нужно сказать, что у подавляющего большинства тех, кто возвращался с войны, орденов, по более поздним понятиям, было немного. Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», пара медалей «За взятие» какой-нибудь европейской столицы и погоны старшего лейтенанта считались вполне достойным итогом участия в войне. У нас на весь институт только один студент был, как говорится, увешан орденами, их было у него штуки четыре, и один вернулся Героем Советского Союза. Нацеплять на себя многочисленные медали, в основном юбилейные и в ознаменование выслуги лет, стало модным лишь через пару десятков лет после войны и достигло своего апогея лет через 30.
Никак не могу вспомнить, откуда и как, будучи дома, я ночью узнал о том, что война окончилась. Я оделся и побежал к Лене Слонимской домой на улицу Маяковского, там же появились Женька и еще кто-то. Осталось в памяти, как мы приплясывали и пели посреди улицы, а потом всей компанией пешком отправились в институт, куда стихийно собирались студенты, несмотря на раннее утро. Сейчас, конечно, бесполезно пытаться передать современникам чувства торжества Победы, которые охватили тогда нас всех вместе, независимо от возраста и положения. Это был действительно Великий День, оставшийся у нас в памяти на всю жизнь. Термины «до войны», «во время войны» и «после войны» на десятилетия вошли в речевой обиход людей военного поколения.
Уже летом 1945 года в Ленинград начали возвращаться из армии люди, оставшиеся целыми. Но я не помню, чтобы это было массовым явлением. Сейчас понятно, что предстояла еще японская война и было уже определено направление нашего послевоенного развития. А пока все ждали перемен. Общий тон жизни сразу стал каким-то другим. Уверенность, что теперь, после Победы, все дела пойдут хорошо, была всеобщей.
Третий курс. Сессию за второй курс я сдал плохо. В целом я заимел три «хвоста» на осень, что впрочем, меня не особенно угнетало. В то лето, сразу после войны, студентами еще никто не интересовался, и после окончания экзаменационной сессии они были предоставлены сами себе. Слоняясь без дела, я встретил на Невском проспекте старшего лейтенанта из Особой северной группы, с которым был знаком еще с войны по Смольненскому аэродрому. Он работал там же, по-прежнему в транспортной авиации, на тех же «дугласах» командиром. На этот раз у него был рейс в Днепропетровск, и он предложил мне подработать, оформившись сопровождать груз.
Мы вылетели утром. В салоне я был один и скоро заснул, лежа на ящиках, которыми была загружена кабина. Меня разбудил вдруг изменившийся монотонный звук, сопровождающий движение всякого самолета. Взглянув в иллюминатор, я увидел, как из правого мотора хлещет масло, затекая на кромку плоскости самолета. Из кабины вышел один из пилотов и сказал, чтобы я перешел в хвостовой отсек и там, завернувшись в чехлы от мотора, ждал посадки. Экипаж приготовился приземляться аварийно, без выпуска шасси, в поле, и одновременно тянул до полевого военного аэродрома под Курском. Ему это сделать удалось, и посадка прошла благополучно.
На аэродроме базировался полк, укомплектованный американскими истребителями «Летающая кобра». Мне впервые довелось посмотреть эти самолеты вблизи. На вид они были крупнее обычных истребителей и выделялись своими винтами с четырьмя изящно изогнутыми лопастями. Их на аэродроме стояло много, причем в ровном открытом ряду по случаю уже наступившего мирного времени. Мне запомнились эти грозные боевые машины, наверное потому, что они были уже никому не нужны. Кругом, как всегда в разгар лета, цвела среднерусская природа, и на закате солнца опять пели соловьи. Умиротворенность была во всем. Никак не верилось, что только что здесь была война, а сейчас полк уже ожидал своего расформирования. Мы прожили там два дня и даже ходили к кому-то в гости. Экипаж сам ремонтировал самолет, и я в этом участвовал. Ремонтную бригаду не вызывали, поскольку запасной маслопровод летчики достали где-то поблизости.
До места назначения мы долетели благополучно, и в обратный рейс из Днепропетровска командир разрешил каждому члену экипажа взять с собой по 50 килограммов груза. Я, по неопытности, накупил яблок, а члены экипажа - каждый по мешку семечек. После посадки в Ленинграде нас здесь же, на летном поле, встретила грузовая машина, которая прямо с борта все наши покупки увезла в город. Эта техника была отработана до автоматизма.
На аэродроме все выглядело так же, как четыре года назад, когда я работал учеником моториста. Все было по-прежнему, внешне ничего не изменилось, и даже люди, многих из которых я узнал, были те же. Но я напоминать о себе постеснялся. Не знаю почему. К тому времени, когда я перешел на третий курс, наш институт по своим размерам и структуре уже восстановился до довоенного уровня. Его структура была подобна Политехническому институту, но всего с двумя факультетами - оптическим и точной механики. Сразу после войны институт продолжал интенсивно развиваться сообразно новым тенденциям, порожденным развитием военной техники. С осени 1945 года учредили еще один факультет с длинным названием «электроприборостроения», на который мы все трое, Женя, Лена и я, были переведены. Причем они - по специальности «радиолокация», а я - «телемеханика и автоматика», так что мы оказались в разных группах. Нам было предназначено научиться понимать устройство американской радиолокационной станции СЦР-584 и все, что с ней связано. Для этого мы должны были стать инженерами по новому для СССР профилю, по которому не имелось даже учебников. Мы пользовались американской Энциклопедией радиолокаций, еще не переведенной на русский язык.
На новом факультете нас стали переучивать в электриков. До этого вся программа института, рассчитанная на подготовку конструкторов оптико-механических приборов, была выдержана в ортодоксальном стиле. Начертательная геометрия, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин были возведены в разряд культа. По ним были бесконечные задания и, главное, курсовые проекты, требующие большого количества чертежей. В нашем институте «чертежка», то есть зал с чертежными досками на столах, была популярным местом общих встреч и дискуссий. Вскоре нам добавили курсы теории электромагнитного поля, теоретических основ электротехники, радиотехники, электрических машин, измерительных приборов и целого перечня предметов узкого назначения. Срок обучения был продлен до шести полных лет, а в сессию определено по шесть- семь экзаменов, не считая зачетов. И во все это дело я вошел со своими тремя «хвостами» за второй курс. Поэтому учебный год прошел сумбурно. Я долго сдавал «хвосты», потом затянул с зимней сессией и получил предупреждение об отчислении, но в итоге все как-то обошлось, и третий курс я закончил неплохо.
Дома у меня спокойной жизни не было. Мы с матерью жили вдвоем, но душевного контакта у нас не состоялось. Это не значит, что мы перестали поддерживать друг друга, просто слишком далеко разошлись наши интересы. Я после войны еще не успел отделаться от привычки считать, что место, где мы сейчас живем, временное, а мать не очень следила за теплотой нашего дома. Отец тоже продолжал жить один, получив комнату на Литейном проспекте. Дом, в котором он был прописан до войны, разбомбили. Поэтому семейной жизни в общепринятом смысле у нас не получалось. Но мы этим обстоятельством не только не тяготились, а, наоборот, поддерживали и с удовольствием встречались у нас за столом только по воскресеньям. Потом это вошло в обычаи, который сохранялся многие годы.
Материально было тоже тяжело. Заработать из-за учебы я уже ничего не успевал. Моя стипендия была мизерной. В результате жили на деньги матери, которых хватало только на то, чтобы выкупить продукты, выдаваемые по карточкам. А их, этих продуктов на питание до сытости по-прежнему не хватало. В коммерческих магазинах продавали какие угодно продукты, но по совершенно недоступным для нас ценам. Отец в ту зиму отдавал нам половину своей продуктовой карточки литеры Б, что нас очень поддерживало. На эту половину карточки дополнительно давали, я помню, десяток белых булок в месяц, с полкило масла, мясные консервы и еще что-то. Карточки литеры А и Б давали начальству. Уровень литеры Б, судя по отцу, был у начальника конструкторского отдела оборонного предприятия. Литера А, надо полагать, соответствовала должности типа директора, главного инженера и парторга. Эти пайки выдавали в специальном магазине, и их содержание обеспечивало семье уже нормальное существование. Как снабжалось начальство выше директора института или завода в сорок пятом - сорок шестом годах, я себе не представлял.
Что касается политической стороны нашей жизни, то она проявлялась, я бы сказал, спокойно и в привычных для всех нас рамках. Лично я любил выступать на комсомольских собраниях, понимая, что это помогает моему общему развитию. Не так просто говорить перед большим залом. В комитете комсомола или рядом, на площадке лестницы второго этажа, часто собиралась компания. Вместо того чтобы скучать на лекции, мы о чем-то спорили и составляли, по существу, актив молодежи института.
Четвертый курс. Лето 1946 года было занято военными сборами. По форме это был настоящий призыв в армию. Несколько сотен студентов ленинградских институтов, имевших военно-морские кафедры, собрали во дворе Флотского экипажа около площади Труда. За ночь, которую мы провели, расположившись на земле, нас полностью экипировали, причем с подгонкой выходной формы по фигуре индивидуально. Для пропитания на эту ночь нам выдали по большой, килограмма 3 или больше, банке американской тушенки на двоих. Запомнил, как мы с моим другом Женей дырку в банке расковыряли железкой, найденной во дворе, и ели мясо руками. Хлеба нам почему-то не дали.
К утру мы все, одетые в шинели, со всем положенным матросу имуществом в заплечном мешке, были построены в колонну по четыре и двинулись по направлению к Неве. Шли уже не студенты, а войска, хотя и необученные, Наши индивидуальности, склонности каждого и мысли соединились в Учебный батальон Краснознаменного Балтийского флота, действующий согласно уставу и приказам командования. По сходням мы ступили на большой паром и, как были, стоя, поплыли, вернее пошли, к Кронштадту. Там нас разместили в западных казармах. Это были трех- или четырехэтажные кирпичные здания, служившие временным домом многим поколениям матросов. Все было приспособлено для соблюдения давным-давно установленных порядков и морских традиций.
Жили мы в казармах повзводно, размещаясь на двухэтажных нарах. Все шло так, как полагалось при прохождении курса молодого бойца или матроса. Нас подвергали муштровке, которая по нынешним взглядам на права человека вполне могла сойти за издевательство над личностью и намеренное подавление его человеческих достоинств. Но тогда эти отношения считались нормальными и не вызывали никаких эмоций. Главное было в другом. Некоторые из наших студентов пришли с войны и имели офицерские звания. Были также старшины и сержанты. Здесь, в лагерях, мы все стали военнослужащими, и поэтому произошла полная перестановка ценностей. Офицеры никакой муштре не подвергались, жили и питались от нас отдельно и вообще пребывали как на курорте. Они свободно гуляли по Кронштадту, тогда как мы могли это делать только в строю, шагая на плац для занятий. Старшины и сержанты жили хоть и с нами, но находились в привилегированном положении, командуя отделениями. Во время строевой подготовки мы ходили до изнеможения, а они на нас только покрикивали. Каждый день после довольно плотного завтрака и построения во дворе эти сержанты, превратившиеся в старшин первой или второй статьи, вели нас на площадь перед собором и там до обеда «гоняли». Причем мы были при полной выкладке, то есть с трехлинейной винтомов, подсумком, противогазом и еще с чем-то. Они же, без ничего, наблюдали за нами чуть ли не с папиросой в зубах. А после обеда мы выбивались из сил в море на баркасах, загребая длиннющими , многометровыми, веслами. Но здесь уже настоящие морские старшины, сидя на корме, приказывали нам, что делать, страдать дальше или отдыхать по команде «суши весла». Весла нужно было поднять вверх торчком и сидеть на банках, то есть на скамейках, неподвижно. Угнетало нас также и то что, пока мы не приняли присягу, нам не разрешали надевать ленточки на бескозырки, что нас узаконивало в звании «салаг». Они же, сержанты, наши же студенты, не отличались своей формой от всех других военнослужащих, которых в Кронштадте было очень много. О наших офицерах я речь уже не веду. Они были настолько выше нас по своему положению, что мы их даже не видели и не знали, где они проводят свое время. С нами занимались только старшины. Разница в служебном положении между офицерами и «нижними чинами» тогда была еще очень значительна. Но, несмотря на скрытую обиду, никакого протеста против такого перераспределения ролей у нас не было. Заданному порядку все беспрекословно подчинялись. Такова была тогда сила традиций или, может быть, воспитания. Мода на протесты и демократию возникла значительно позже.
Хорошо помню, как мы принимали присягу. Весь учебный батальон был построен во дворе казармы. Мы стояли там несколько часов на солнцепеке, пока каждый в строю не прочитал текст присяги и не расписался. Стоящий рядом со мной студент от перегрева упал в обморок. Его положили в тень, он тут же пришел в себя и вернулся в строй. Тогда это считалось обычным явлением и медицинского вмешательства не требовалось.
Незабываемым остался момент, когда по случаю принятия присяги нас впервые отпустили в город. Мы нацепили на свои бескозырки ленточки, отгладили «клеша» и фланировали по тем же улицам, по которым шагали строем, но чувствовали себя уже совсем по-другому. Понемногу мы становились матросами. Шагистика посуху кончилась, и основное наше учение переместилось в море. Хождение на баркасах уже не представлялось мучительной процедурой. Слабость наших мышц, связанную с цивилизацией, мы преодолели. Ритмичные гребки веслами «всем враз» и движение баркаса по открытой воде при небольшом волнении, да еще в солнечную погоду приводило в состояние, которому трудно найти определение словами. Это не удовольствие, а нечто совсем другое. Когда-то от силы и слаженности этих движений в море зависело очень многое.
Однако все, как известно, имеет конец. Мы вернулись из лагерей тощими, загорелыми, здоровыми и вполне отдохнувшими от всего, что сопровождало нас в городской жизни.
На четвертом курсе нас продолжали превращать в электромехаников, начитывая мелкие курсы по различным предметам, имеющим к этому отношение. Но закваска с первых двух лет обучения у нас была другая. Поэтому курс по теории механизмов и машин, так называемый ТММ, который был жупелом и после сопромата считался самым сложным, нам было сдать проще, чем теоретические основы электротехники. А тройку, которую мне поставил профессор Слепян за теорию электромагнитного поля в душе я считал отметкой завышенной.
Интерес к нашей новой специальности возник с курса «Электрические машины». Профессор Людвиг Марьянович Пиотровский, который его читал, был небольшого роста, с белесыми глазами на худом лице аскета, большой оригинал и настоящий деспот. Читал лекции он блестяще, в том смысле, что все было понятно. Электрический мотор воплощает в своем устройстве довольно сложную физическую картину, а его модификации значительно различаются по своим принципам действия.
Но суть обучения профессор Пиотровский вкладывал, по-моему, не в лекции, а в экзамены. Сначала, перед тем как позволить студенту вытащить билет, он задавал ему задачу, которую тот должен был решать тут же, при нем, на виду. Причем задача была связана не с вычислениями, а с пониманием того, что делается внутри электрической машины. Если студент задачу решить не мог, то уходил до следующей попытки, а если решал, то профессор давал билет, и можно было готовиться к ответу. Первый экзамен я сдавал ему часов семь. Когда я чего-то не знал, он хватал книгу, автором которой был сам, судорожно листал страницы, находил нужное место, тыкал в него пальцем и указывал на дверь. Толком ничего, что написано в книге, в такой обстановке было понять нельзя, и текст приходилось учить наизусть. Вообще, все это смахивало на сцену в сумасшедшем доме. Некоторые наши девочки не выдерживали и плакали, отвечая на вопросы профессора, а он на них смотрел сверлящим взглядом и никакого снисхождения не оказывал.
В результате этих пыток я за первый семестр получил на экзамене «3», а за второй - «4», и в обоих случаях был счастлив. Как это не парадоксально, но только профессор Пиотровский всех нас научил мыслить «электрически». Он заставил нас увериться в том, что не восприняв смысл и значение основных законов электродинамики, нельзя по-настоящему понять, как работает даже простенький мотор, не говоря уже о том, чтобы научиться его конструировать.
Надо сказать, что в смысле профессоров нам повезло. Мы слушали лекции и сдавали экзамены известным в своих кругах ученым, написавшим учебники, по которым занимались и сдавали экзамены несколько поколений студентов. Таких профессоров тогда было очень мало, и поэтому они вели курсы в двух-трех институтах сразу. Все они были люди неординарные и имели какие-то особенности, которые студентам запоминаются на всю жизнь. Например, профессор Ягн, который читал нам курс «Сопротивление материалов». Как-то в нашей институтской стенной газете появилась кар